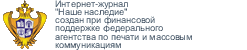Татьяна Долгодрова
Татьяна
Долгодрова
Собрание
набивных тканей Роберта Форрера в
Российской государственной библиотеке
Эта
статья является своеобразным продолжением
публикаций в №№ 32, 42 и 49 журнала «Наше
наследие», где речь шла о сокровищах из
Немецкого музея книги и шрифта (г.Лейпциг),
хранящихся ныне в Российской государственной
библиотеке.
Уникальная
коллекция тканей с клеймом немецкого
коллекционера и ученого Роберта Форрера
находится ныне в знаменитой комнате-«сейфе»
РГБ, и поступило сюда это собрание в
1946 году по репарациям после окончания
Второй мировой войны в возмещение
ущерба, нанесенного русской культуре.
До того времени коллекция, насчитывающая
173 экспоната древних тканей, а также
тканей XVIII
и XIX
веков с ручной печатью, являлась
действующей экспозицией — своего рода
музеем в музее.
Роберт
Форрер, доктор филологии, хранитель
Доисторического музея в Страсбурге,
был коллекционером и автором работ,
заложивших фундамент научного изучения
печати на тканях и целого ряда других
искусствоведческих исследований. Он
родился в швейцарском городе Майлен 9
января 1866 года и умер в Страсбурге, где
провел всю жизнь, 4 апреля 1947 года. Форрер
был историком древностей, археологом,
нумизматом, историком искусств. Его
труды в области нумизматики не потеряли
своей научной значимости и поныне, —
так, например, в Граце в 1968 году вышло
переиздание его двухтомной монографии
«Кельтская нумизматика Рейна и Донау»
(Страсбург, 1908). Круг его научных интересов
был очень широк, Форрер автор двух
десятков фундаментальных монографий:
«История европейской обливной керамики
от средневековья до 1900 года» (Страсбург,
1901), «Древнее баварское искусство»
(Эсслинген, 1906), «История страсбургских
древних золотых и серебряных украшений»
(Страсбург, 1904) и других. В 1894 году Форрер
выпустил монографию «Печать на ткани
византийская, романская, готическая и
последующих эпох», где описал 57
большеформатных композиций на ткани и
132 фрагмента набивных тканей, начиная
с VI
века н.э. В 1898 году вышла вторая
фундаментальная монография Роберта
Форрера «Искусство печати на тканях».
После
Первой мировой войны, когда Страсбург
отошел Франции, Форрер стал писать свои
работы на французском языке, среди них
наиболее значимые: «Галльские и кельтские
монеты» (1925), двухтомное издание «Страсбург
— Argentorata»
(1927), «Романский Эльзас» (1935).
В
1920-е годы большую часть своего собрания
древних набивных тканей ручной печати
и тканей, имеющих композиции ксилографической
печати, Роберт Форрер продал в Нюрнбергский
музей, треть своей коллекции — в Немецкий
музей книги и шрифта (г.Лейпциг). Эти
экспонаты составили два раздела музея
— «Набивные ткани мелкоформатного
рисунка», содержащие образцы различных
тканей, и «Искусство печати на тканях»,
где были собраны и ткани с крупноформатными
ксилографиями, и композиционные гравюры
и картины, выполненные в технике гравюры
на дереве, шелке, атласе, бархате XV—XIX
веков. Эта экспозиция представляла
немалый интерес для изучения истории
печати на ткани, охватывая период с XIII
по конец XIX
века и включая образцы тканей разных
стран.
Почему
эта коллекция стала частью Музея книги
в Лейпциге? На мой взгляд, объясняется
это тем, что западноевропейские
старопечатные книги, начиная с XV
века, украшались иллюстрациями, сделанными
в технике гравюры на дереве. С тех же
самых ксилографических досок делалась
и печать на тканях, но гравюра на ткани
отличается укрупненными формами.
Известно, что города, где процветало
производство набивных тканей, начиная
с XIII
века, отличались и расцветом искусства
гравюры на дереве, — как пример можно
привести нидерландский город Лувен.
Опыт печати на ткани, существовавший
уже несколько веков, не мог быть не учтен
при появлении книгопечатания.
Среди
образцов тканей Форрера — различные
техники печати: есть восковая ксилография,
когда выпуклые части гравировальной
деревянной доски покрывались воском и
такой восковой рисунок отпечатывался
затем при покраске ткани. Именно в этой
технике выдержана фигурная композиция
«Иерусалим», сделанная в немецком городе
Хессене и датируемая около
1700 года. Надо отметить, что среди тканей
Форрера есть не только набивные ткани
и ткани с гравюрными композициями, но
и образцы редкостных экспонатов с
узорным ткачеством, своими изысканными
рисунками дополняющие картину многообразия
художественных тканей.
Начинала
экспозицию музея самая древняя часть
коллекции — немецкие ткани XIII—XIV
веков (впрочем, вплоть до XVIII
века все набивные ткани коллекции —
немецкие) — редчайшие образцы тканей
романского стиля. Это три экспоната
XIII
века и три, относящиеся к XIII—XIV
векам, все они представляют печать по
льну, как темной краской по светлому
фону, так и наоборот. Для этих романских
тканей характерен строго симметричный
орнамент, включающий изображения птиц,
оленей, растений, геральдических
элементов, розеток, фрагментов восточного
орнамента. Эти предметы, кроме декоративной
функции, несли еще и символическую
нагрузку: так, олень являлся символом
Христа, птицы — олицетворяли грех
сладострастия, мифологическое растение
— акант — символизировал воскресение
и так далее, еще раз свидетельствуя о
том, что символика пронизывала все
стороны средневековой жизни, включая
бытовую.
К
XIV
веку в коллекции относится пять образцов
тканей, это готическая печать, имеющая,
кроме уже известных по романскому стилю
элементов, целые фигурные изображения
— сцены Распятия, охоты, ставшие
традиционными для печати на ткани. Кроме
льна, печать XIV
века сделана по шелку и бархату, причем
ксилографическая печать, наносимая на
бархат, создавала иллюзию «рытого»
бархата, употреблявшегося для ширм,
мебели, одежды. XV
век представлен в коллекции Форрера
тремя образцами готического стиля, это
печать по льну и бархату, орнамент
которых отличается, так же как и романский,
строгой симметрией рисунка узора. К XVI
веку относятся три фрагмента печати по
льну, среди них два с применением уже
не одноцветной печати, как это наблюдалось
в тканях предыдущего времени, а
двухцветной. XVII
век, данный в трех образцах, кроме
традиционного льна, демонстрирует
золотую печать по шелку, а также бордюрную
печать.
Прекрасно
представлен XVIII
век — это образцы немецких тканей,
выполненных в стиле Людовика XVI,
обнаруживающих французское влияние на
немецкое искусство. Использован лен,
бархат, парча. Среди них наблюдается
сложная набивная многоцветная печать
в три и пять цветов. Иногда на ткани
копировались книжные иллюстрации.
Среди
экспонатов есть набивные ткани XV
века с рисунком цветов и растений,
сделанных явно под влиянием гравюр
немецких Травников — «Hortus
sanitatis»
(«Сад здоровья») XV
века, только сильно увеличенных. Влияние
книжной иллюстрации на набивную печать
на тканях проявляется и в обойном ситце,
произведенном в Мюнстере около 1800 года,
выполненном в технике лиловой гризайли
«Триумф Бахуса». Для рисунка этой ткани
прообразом послужили «Триумфы» — лучшие
гравюры самой знаменитой книги эпохи
Ренессанса «Сон Полифила», изданной в
Венеции Альдом Мануцием в 1499 году.
Повозка Бахуса запряжена леопардами,
подобно единорогам, слонам, кентаврам
и сатирам в «Триумфах» «Сна Полифила».
В
раздел набивных композиций входят
работы знаменитых мастеров, в частности
подлинная гравюра Альбрехта Дюрера из
первой сюиты гравюр «Апокалипсис» 1498
года «Мученичество св.Иоанна», выполненная
на атласе. Этот кремовый шелк сглаживает
контраст между черными линиями изображения
и фоном, смягчая трагизм происходящей
сцены.
Огромный
интерес представляют крупноформатные
ткани эпохи ампир — среди них немецкие,
французские, голландские и английские
ткани. Особо выделяется композиционная
английская гравюра на хлопчатобумажной
ткани 1812 года, которая называется «Пожар
Москвы 1812 года». Это мужской носовой
платок. Сцена сделана явно с натуры и
сохранила все не существующие ныне
кремлевские постройки. Любопытная
деталь — отдельно изображены фигуры
казака, с ленцой сидящего на коне и не
бьющего врага, и фигура английского
солдата (о чем говорит сопроводительная
надпись), смело повергающего врага.
Огромную
редкость представляют обойные штофы
из ситца с набивными композициями,
сделанные путем прокатки на валике, с
ксилографическим рисунком. Если
драгоценные лионские тканые шелка
сохранились в королевских дворцах, то
ситцевые обои, которые использовали
простые бюргеры, конечно же, почти не
дошли до нас. Так, мы с трудом себе можем
представить, как выглядели обои в детских
комнатах эпохи ампир, а благодаря тканям
Форрера — это становится возможным.
После
принятия Закона РФ «О перемещенных
культурных ценностях», спустя более
пятидесяти лет умалчивания о ее пребывании
в РГБ, коллекция Роберта Форрера стала
доступной для специалистов. Появилась
возможность в полной мере оценить ее
научное значение. Мы видели, что Форрер
подходил к своему собирательству во
всеоружии превосходного знания истории
различных искусств и археологии, в
частности, истории набивных тканей.
Почти полное отсутствие справочных
материалов по этому вопросу натолкнуло
его на создание монографий по истории
тканей, выделив историю печати на ткани
в отдельный раздел искусствознания. И
именно экспонаты своей коллекции,
сопроводив высококвалифицированными
и профессиональными аннотациями, Роберт
Форрер приводит в качестве примеров в
этих монографиях. Таким образом его
коллекция имеет не просто общекультурное
значение как одна из первых и редчайших
коллекций подобного рода, но приобретает
и некий второй, источниковедческий
смысл.