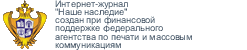Анатолий Заславский
Самопознание Гусева
Творчество — это место пересечения разнонаправленных устремлений общества с путями развития современного ему искусства, с линиями судьбы самого художника.
Юрий Гусев захотел стать художником в то время, когда случилась хрущевская оттепель и искусство 1960-х пыталось вспомнить авангардные 1920-е годы. Скоро оттепель закончилась и началась эпоха глухого застоя. Зато неофициально успели возникнуть художественные школы, которые настойчиво исследовали законы развития языка искусства. В Ленинграде образовались школы В.Стерлигова, О.Сидлина, Г.Длугача — каждая по-своему анализировала принципы построения картинной плоскости, отворачиваясь от идиотизма иллюстрирования «социалистического содержания». Линия судьбы Юрия Гусева в конце его обучения в Ленинградском художественном училище им. В.Серова пересеклась с исканиями творческой группы «Эрмитаж», которой руководил Григорий Яковлевич Длугач. Эта группа аналитически интерпретировала произведения великих мастеров и была для Юрия серьезной школой понимания саморазвития формы внутри формата картины. Это помогло ему заглянуть в истинное содержание предмета искусства и уйти от поверхностного литературно-идеологического подхода.
Приемы исследования шедевров великих мастеров последователи школы Григория Длугача использовали в собственных творческих работах, но демонстративное присутствие этих приемов тормозило проявление личностного, индивидуального опыта каждого художника. Юрия это не очень устраивало, и он, освоив принципы системы своего руководителя, занялся познанием самого себя. Он внимательно, с большим тщанием рассказывает себе о самом себе от картины к картине.
Он определяет сферу своих интересов, и постепенно, на основании многочисленных изобразительных сюжетов, выстраивается, если пользоваться «иконной» терминологией, житие одного человека — героя живописного повествования Юрия Гусева.
Трудно определить, что в этом повествовании «во-первых», а что «во-вторых». Скорее всего, важность определившихся тем одинакова, и он в течение жизни обращается к каждой из них, испытывая с их помощью возможности живописного языка. Вполне вероятно, что именно расширение этих возможностей — главный смысл труда художника. Работа над языком старается соответствовать постановке основных вопросов жизни. Например: «Я и Земля» или еще шире: «Я и Вселенная». Тема огромности пространства вокруг нас, которое художник пытается осознать и выразить языком живописи, трактуется то как хаотическое взаимопроникновение земных и небесных экспрессивных движений, то, наоборот, Земля, распластанная под небом, становится местом проживания, предметом обладания. Он ее копает, он ее рисует, он пытается заглянуть в ее недра, он понимает, что он ей сродни, что он из нее вышел и в нее уйдет. Поверхность картины становится в этом случае плотной, непроницаемой, вспыхивающей кое-где сполохами таящегося внутри огня. Иногда герой Гусева останавливает взгляд на ослепительно-белом облаке. Это не световой эффект в манере Архипа Куинджи, это прорыв из уже освоенной материи в другую субстанцию. Скорее всего, этот незакрашенный кусочек белого холста — не тронутая авторской рукой мечта о чистом сознании. Непонятно, что в этом Ином — страх, тревога или надежда? Еще одна тема: «Я и мои Друзья», среда, меня воспитавшая, коллективная энергия, резонирующая во мне.
Не знаю, существует ли сейчас среди молодежи тот институт дружбы, который впервые в нашем отечестве воспел Александр Сергеевич Пушкин и который был в нашей молодости главной нравственной опорой и самым плодотворным образовательным центром. Ведь, познавая науки под руководством наших учителей, мы, в сущности, учились друг у друга. О дружбе рассказывает серия картин, которые Юрий Гусев называет «Чарочка»; именно рассказывает: вокруг маленькой чарки, которую держит один из героев картины, собрались друзья автора и он сам. Очень сложная живописная материя рождает их портреты.
Индивидуальные характеристики друзей даны с той достоверностью, которая необходима автору, чтобы навсегда запомнить каждого в общем колышущемся танце голов, рук, силуэтов и ракурсов.
Исключительный интерес к своей жизни, подаренной ему и пока еще длящейся в пространстве и времени, делает Гусева человеком рисующим, а не создающим конструкции из объектов, к чему нас подводил Сезанн, а потом кубисты. Рисующий художник, едва касаясь границ изображения, продвигается по стыкам форм, чтобы достичь узнавания предмета внутри своей памяти. Потом чарочкой завладевает женщина. Возникает новая большая тема. «Я и Она». Адам и Ева. Рисующий организм Гусева блуждает среди женских очертаний, фокусируется на очертаниях Жены. У одного Адама одна Ева.
Иногда Гусев не выдерживает напряжения высокой драматургии и вспоминает детство, где есть больше степеней свободы. Там на широких городских пространствах несутся куда-то мальчишки. Высокое искусство образуется там, где два мальчика-велосипедиста, один из которых, несомненно, автор, рисуют на Дворцовой площади иероглиф великой свободы. Они такие же метафизически белые, как облако, о котором говорилось выше, вырвавшиеся из контекста посюстороннего пейзажа Ленинграда, знакомого нам по живописи художников группы «Круг».
Затем житейское повествование Юрия Гусева перевоплощается в цирковое. Здесь все позволено. Здесь — знакомые с детства тяни-толкаи (лошади с двумя головами или двумя крупами), здесь фокусник мановением палочки превращает уродливых женщин в красавиц, здесь первые люди, Адам и Ева, совершив свой страшный грех непослушания, весело бегут плодиться и размножаться.
В результате исследования творчества Гусева выстраивается образ художника, родившегося, естественно, в своей стране и в свое время, но умеющего выбрать то, что необходимо для развития именно его личности. Гусев абсолютно свободен в поиске живописного языка. С его помощью он пытается заглянуть в величайшую тайну нашего появления в мир, пребывания в нем и неминуемого ухода из него. Вероятно, в те места, которые сродни светящемуся облаку или светящимся велосипедистам.
Или мы окажемся во власти Великого фокусника, который выправит все наши уродства.
Юрий Гусев — романтический художник-интеллигент, детство которого прошло после великой победы над фашизмом, а юность — во время освобождения от тоталитаризма. Его мир высвечен изнутри светом надежды. Последующие поколения резко пригасили этот свет, готовые к неминуемой катастрофе.